О политических партиях Казанского ханства
В работах историков широко распространился тезис о том, что правящая элита Казанского ханства делилась на «политические партии», борьба между которыми и определяла ход истории этого государства.
Анвар АКСАНОВ,
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Центра исследований Золотой Орды
и татарских ханств им. М.А. Усманова
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ
В работах историков широко распространился тезис о том, что правящая элита Казанского ханства делилась на «политические партии», борьба между которыми и определяла ход истории этого государства.
Одним из первых к этой проблеме обратился Г.И. Перетяткович, который выделил четыре партии: крымскую, московскую, ногайскую и шибанскую. Важнейший вклад в теоретическое обоснование этой концепции внес М.Г. Худяков. Пытаясь интерпретировать летописные сведения в духе идей научной школы М.Н. Покровского, М.Г. Худяков считал, что эти партии сложились на почве конкуренции двух групп торговцев. Промосковская партия представляла интересы казанских купцов, активно торговавших с русскими землями, а восточную партию – торговцы, связанные с мусульманскими странами. Эта идея укладывалась в официальную теорию торгового капитализма М.Н. Покровского и наиболее «рационально» объясняла летописные известия о «лести» и «изменах» казанцев. В 1930-е гг. школа Покровского была «разоблачена», а М.Г. Худякова репрессировали, но его теория о партийном делении казанцев продолжала стоять на вооружении последующих поколений историков, поскольку была единственным логичным объяснением непонятных для «здравого рассудка» летописных сентенций о богопротивных качествах казанцев, являвшихся основной причиной московско-казанских конфликтов.
Самое раннее указание на существование промосковской партии в Казани М.Г. Худяков увидел в летописных известиях о конфликте вокруг казанского престола 1467 г. По его мнению, в 1467 г. эту партию возглавлял Абдул-Мамон: часть аристократии была недовольна политикой хана Ибрагима и пригласила на трон Касима. В условиях войны Ибрагиму якобы удалось расправиться с промосковской партией и выступить против великокняжеской армии. Подобным образом известие летописца объяснили К.В. Базилевич, С.Х. Алишев и Д.А. Котляров: они приняли 1467 г. за дату появления в Казани московской партии. Однако анализ известия о приглашении Касима «от Авдул-Мамона» показал, что оно является библейским парафразом, отражающим религиозно-идеологическое обоснование войны, а не конкретно-исторический сюжет.
При этом в трудах историков мало внимания уделялось и внешнеполитическим факторам истории Казанского ханства. Начиная с М.Г. Худякова, исследователи, обращавшиеся к проблеме борьбы за казанский престол, усматривали корни политического конфликта в противостоянии прорусской (промосковской) и восточной партий казанской знати. Но источники не сохранили данных о подобном партийном делении. Основными аргументами в пользу этой версии выступали обычно косвенные сведения, указывающие на внутриполитический конфликт среди казанской аристократии. Как было отмечено выше, первым таким свидетельством, по мнению ряда историков, является известие от 1467 г.
Второе проявление внутрипартийной борьбы виделось исследователям в событиях 1485–1487 гг., когда Московское государство при дипломатической поддержке Крыма вело борьбу против казанского хана Ильхама (Адхама/Алихана). В результате этого противостояния в 1487 г. московские воеводы пленили хана Ильхама и его сторонников, при этом дипломатические акты говорят о том, что «Алказый да Тевекел сеит, да Касым, да Бегиш с сыном Утешем и иные…» знатные казанцы спаслись бегством к тюменскому хану Ибрагиму (Ибак/Айбак). Тюменский хан не только приютил казанских князей и мурз, но и стал инициатором мирных переговоров с русским государем. В 1489 г. в Москву прибыло тюменско-ногайское посольство с грамотами от хана Ибрагима и ногайских мурз.
Материалы этой переписки указывают на некоторые особенности политической жизни Казанского ханства. Ранее исследователи, развивая тезис о расколе казанской элиты на промосковскую и восточную партию, видели в бежавших к Ибрагиму казанцах («Алказый, да Тевекель Сеит, да Касым Сеит, да Бегиш с сыном с Утешом и иные их товарищи») представителей восточной партии. Казалось бы, данное сообщение посольских книг впервые указывает конкретные имена представителей одной из партий, оставалось только назвать членов промосковской партии. Однако источники не только не сохранили имен сторонников московского влияния, но и не содержат никакой, даже косвенной информации о деятельности этой группировки. Поэтому в очередной раз возникает вопрос: а существовало ли такое партийное деление внутри казанской знати, или этот конфликт необходимо рассматривать в контексте более масштабного противостояния за гегемонию в Улусе Джучи?
Для понимания источников необходимо рассмотреть политическую историю Казанского ханства в контексте межгосударственных отношений, развивавшихся в 1480-е гг. вокруг борьбы за верховенство в Орде. После смерти хана Ахмада в 1481 г., помимо его наследников, на роль верховного хана претендовали крымский хан Менгли-Гирей и тюменский хан Ибрагим. Московский государь, умело использовавший противоречия между различными татарскими правителями для того, чтобы обезопасить себя, ориентировался на Крым, который, подобно Москве, был заинтересован в борьбе с Польско-Литовским государством и с Большой Ордой. А казанский хан Ильхам склонялся к союзу с тюменским ханом Ибрагимом.
Вместе с тем у крымского хана, после женитьбы на вдове казанского хана Нурсултан, появилась возможность упрочить свои позиции в Среднем Поволжье. Менгли-Гирей и Нурсултан ходатайствовали о московской военной помощи для Мухаммад-Амина, сына Нурсултан, боровшегося за казанский престол с единокровным братом Ильхамом. В сложившейся обстановке в 1485 г. Иван III при поддержке Менгли-Гирея начал войну против Ильхама. В результате этого конфликта в 1487 г. Ильхам был выдан казанцами, и ханство присоединилось к московско-крымскому альянсу. При этом очевидно, что с 1481 г. (после победы хана Ибрагима над ханом Ахмадом) московско-крымскому блоку, кроме Ахмадовичей, противостояли тюменские Шибаниды и ногаи.
Устюжский летописец сообщает, что во время осады Казани 1487 г. некий «Ольгаза силе великого князя много дурно учинил и прогна за Каму в поле». Вероятнее всего, речь идет об «Алказые», упомянутом посольскими документами во главе группы казанцев, пришедших в Тюмень. Вероятнее всего, он и его соратники во время осады 1487 г. возглавляли ту часть казанского войска, которая действовала в тылах осаждающих. Практика разделения войска на две основные части для более эффективной обороны известна и по другим эпизодам московско-казанского противостояния. Хан возглавлял оборону крепости и организовывал вылазки, в то время как другая часть войска, оставшись вне города, атаковывала тылы противника. Но как сказано в Устюжской летописи, во время войны 1487 г. Алгазыя с войском прогнали «за Каму в поле», откуда они, вероятно, и направились в Тюмень. Так им удалось избежать пленения, но в плен попали их близкие родственники, оставшиеся в Казани. Ногайские мурзы Муса, Ямгурчей и Талач в 1489 г. просили Ивана III освободить родственников, которые были пленены в ходе казанского похода 1487 г. Таким образом, лидеры Ногайской Орды – Муса и Ямгурчей – стояли за возвышением как тюменского хана Ибрагима, так и за казанским ханом Ильхамом.
За короткий промежуток времени с 1496 по 1497 гг. в Казани побывало три хана: Мухаммад-Амин, Мамук и Абдул-Латиф. Многие историки считали, что это было следствием борьбы за власть между московской и восточной партиями казанской аристократии. Однако летописцы, используя эпитеты и парафразы из Библии, указали на отрицательные качества, присущие всем казанцам. Они не разделяли их на сторонников и противников Москвы. Более того, активными проводниками всех политических изменений того времени были одни и те же представители знати.
Согласно Д.А. Котлярову, переворот 1496 г. совершили сторонники Ильхама, потерявшие надежду на его освобождение и пригласившие в Казань хана Мамука: «Мухаммед-Эмин был лишен поддержки большей части казанской аристократии… и держался на престоле только благодаря покровительству великого князя московского». Д.М. Исхаков резонно считал упомянутых во главе заговора «Калиметя и Оурака, и Садыря, и Агыша» казанскими карача-беками, лидерами четырех правящих кланов, и, в отличие от Д.А. Котлярова, относил их к сторонникам хана Мухаммад-Амина, оставшимся «в Казани еще с 1487 г., когда часть казанской аристократии бежала после интронизации нового хана при московской поддержке». По мнению Д.М. Исхакова, шибанский хан Мамук, утвердившись на казанском престоле в 1496 г., «изымал» (схватил, арестовал) упомянутых четырех князей за то, что они некогда изменили хану Ильхаму.
Это вполне допустимо, но у нас нет определенных доказательств того, что «Калимет да Оурак, да Садырь, да Агыш» были схвачены Мамуком именно за измену Ильхаму. Летописи ясно свидетельствуют лишь о том, что они изменили Мухаммад-Амину и не оказали сопротивления Мамуку. Источники не сообщают о причинах конфликта между шибанским ханом и казанскими князьями, но говорят о том, что в результате конфликта князья оказались под арестом, а купцы и земские люди были ограблены. Поэтому не исключено, что конфликт произошел на материальной почве. Согласно военно-политическим традициям, хан обязан был щедро одарить своих людей за успешный поход. Видимо, Мамук надеялся решить этот вопрос за счет казанской казны и богатых казанцев, но карачи-беки выступили против.
Арест важнейших государственных деятелей и ограбление населения подорвали авторитет новоявленного хана, и против него выступили арские князья. Вероятнее всего, именно столь шаткое политическое положение вынудило Мамука освободить карача-беков и заручиться их поддержкой в походе на Арск. Д.М. Исхаков предложил два возможных варианта развития событий: арские князья выступили против Мамука, так как они были сторонниками Мухаммад-Амина, «или же представители этого клана попали вначале в г. Казани в плен к Мамуку, а после того как тот их «выпустил», они удалились в Арск». Конечно, допустимы оба варианта, но, учитывая особенности политической системы Казанского ханства и вполне логичное допущение самого Д.М. Исхакова о том, что «Калимет да Оурак, да Садырь, да Агыш» были карача-беками, можно немного уточнить ситуацию. Карача-беки были лидерами четырех правящих кланов, каждый из которых контролировал отдельную даругу ханства, поэтому если Арский карача-бек изначально вместе с другими карача-беками выступил за смену власти в пользу Мамука, едва ли остальные арские князья из этого же клана оставались сторонниками Мухаммад-Амина. Но арест лидера клана в Казани, конечно же, мог вызвать восстание его соплеменников в Арске.
В конце концов, те же самые князья «измену на него (Мамука. – А. А.) възложиша» и обратились к Ивану III с просьбой прислать на ханское место Абдуллатифа. Официальные летописи дважды подчеркнули безнравственное поведение Мухаммад-Амина и указали на то, что это было основной причиной измены казанцев. Еще до этих событий о неразумном поведении молодого хана Мухаммад-Амина сообщила его мать Нурсултан. В целом, ее послание к Ивану III от 1493 г. позволяет лучше понять события 1496–1497 годов. Ханбике просила великого князя принять на попечение или отправить в Казань ее младшего сына Абдуллатифа. При этом она опасалась того, что молодые братья не смогут ужиться в Казани, и просила отпустить туда Абдуллатифа в том случае, если «уланы и князи добрые веремянники и все добре хотя станут просити». Как видно, после изгнания Мамука казанцы все же попросили на ханский трон Абдуллатифа, а Иван III, удовлетворяя их просьбу, опять же, как и в 1487 г., действовал в рамках соглашений с Крымом. То есть причины конфликтов 1496 г., как и в 1480-е гг., следует искать не в столкновении интересов прорусской партии и их противников, а в проявлении более глобальной борьбы Крыма, Москвы, Шибанидов и ногаев за контроль над юртами поздней Золотой Орды. Тогда как сама казанская политическая элита лишь лавировала между этими силами, принимая ханом то одного, то другого ставленника.
И события 1519, 1521, 1532, 1535 и последующих годов историки рассматривали как результат противостояния восточной и промосковской партий. Но источники опять же свидетельствуют о других мотивах борьбы. Порой определяющую роль играли интересы правящих кланов Улуса Джучи.
Так, официальные своды середины XVI столетия, перечисляя казанских послов, упоминают карачу Булата из рода Шириных, поддержкой которых, по словам И.И. Смирнова, пользовался Василий III в деле возведения на престол Шах-Али. В посольских донесениях говорится, что крымский хан, узнав о смерти Мухаммад-Амина, хотел послать в Казань царевича Сахиб-Гирея или Азибека, но не сделал этого, так как в тот момент ему не хватало людей, и поскольку у него была «рознь велика» с Ширинами. Бахтияр-мурза из рода Шириных под влиянием великого князя обручил свою дочь с сыном хана Ахмада, отказав при этом крымскому царевичу Казы-Гирею, то есть намеренно пошел на конфликт с Гиреями.
Перевороты 1530-х гг. против Сафа-Гирея и Джана-Али, так же, как и повторное приглашение Сафа-Гирея в 1535 г., осуществили одни и те же люди: бек Булат Ширин, ханбике Гаухаршад и их сторонники. Смена ханов в этот период не сопровождалась сменой политических элит, что опровергает тезис о партийном делении и указывает на проявления политической гибкости казанского правительства, принимавшего промосковских ханов лишь в годы усиления русского военно-дипломатического давления. Подобно этому, и перевороты 1546 г. стали следствием возобновления широкомасштабных военных действий Москвы против Казани, хотя в официальных русских летописях и дипломатических документах эти события объясняются недовольством казанцев политикой Сафа-Гирея. Конечно, внутренние конфликты в эти тяжелые годы обострились, и некоторые казанские беки и мурзы покинули лагерь Сафа-Гирея. Но их путь не пролегал прямиком в Москву, как об этом писали официальные русские книжники. Недовольные аристократы уходили в «ногаи», то есть в степи. В ногайских книгах сохранились грамоты от имени Ивана IV, по которым, все беглые казанцы приглашались на русскую службу. В этих условиях некоторые казанские князья и мурзы ответили на великокняжеские приглашения и были пожалованы в Москве. Но даже эти люди в результате не стали последовательными сторонниками царя, когда весной 1552 г. речь зашла о ликвидации ханства путем установления наместнической воеводской власти, они вышли из подчинения Москвы, приехали в Казань и подняли город на сопротивление, оказавшееся последним в истории ханства.
Таким образом, концепция «партийного деления» казанской элиты сформировалась на почве игнорирования семантических особенностей летописных известий и их «рационалистического» толкования, которому свойственна модернизация исторических явлений через упрощенное, буквальное понимание источников. Во многом из-за того, что эта концепция хорошо вписывалась в общественно-политическую парадигму своего времени, историки не обратили внимания даже на явные фактологические противоречия. Однако если отойти от этой интерпретации и посмотреть на источники, исходя из мировоззренческих устоев современников событий, то мы не увидим данных о партийном делении казанцев. Официальная летописная традиция, сравнивая казанцев с языческими библейскими народами, говорит об их природных, неизменных, негативных качествах, как о важнейшей причине войны против них, а комплексный анализ источников указывает на проявление политической гибкости казанцев в условиях смены гегемонов на постордынском пространстве и при возникновении серьезных внутриполитических конфликтов.
Литература:
- Алишев С.Х. Казань и Москва: Межгосударственные отношения XV–XVI вв. Казань: Татарское кн. изд-во, 1995. 160 с.
- Аксанов А.В. Казанское ханство и Московская Русь: Межгосударственные отношения в контексте герменевтического исследования. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016. 288 с.
- Базилевич К.В. Внешняя политика русского централизованного государства во второй половине XV века. М.: Изд-во МГУ, 1950. 543 с.
- Бахтин А.Г. Русское государство и Казанское ханство: Межгосударственные отношения в XV–XVI веках: Дис. … д. и. н. М., 2001. 567 с.
- Исхаков Д.М. Арские князья в Казанском ханстве по малоизвестным и неизвестным источникам // Золотоордынская цивилизация. 2017. № 10. С. 390–397.
- Котляров Д.А. Московская Русь и народы Поволжья в XV–XVI вв.: У истоков национальной политики России. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2005. 314 с.
- Котляров Д.А. От Золотой Орды к Московскому царству: вхождение народов Поволжья в состав России. СПб.: «Издательство Олега Абышко», 201 352 с.
- Кузнецов А.Б. Казанский вопрос во внешней политике Елены Глинской (1533–1538 гг.) // Волжские земли в истории и культуре России. Материалы всероссийской научной конференции, посвященной 10-летию создания Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) (г. Саранск, 8–11 июня 2011 г.). Ч. I. Саранск: Типография «Красный октябрь», 2004. С. 73–7
- Перетяткович Г.И. Поволжье в XV и XVI веках (очерки из истории края и его колонизации). М.: Типография Гречева И.В., 1877. 338 с.
- Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). Т. 8. М.: Языки русской культуры, 2001. X + 302 с.
- ПСРЛ. Т. 12. СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1901. 267 с.
- ПСРЛ. Т. 25. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. 464 с.
- ПСРЛ. Т. 27. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. 418 с.
- ПСРЛ. Т. 28. М.: Наука, 1963. 411 с.
- ПСРЛТ. 37. Л.: Наука, 1982. 228 с.
- Посольская книга по связям России с Ногайской Ордой: 1489–1508-е гг. М.: Институт истории СССР, 1984. 100 с.
- Сборник русского исторического общества. Т. 41. СПб.: Типография Ф. Елионского и Ко, 1884. 558 с.
- Сборник русского исторического общества. Т. 95. СПб.: Товарищество «Печатня С.П. Яковлева», 1895. 706 с.
- Смирнов И.И. Восточная политика Василия III // Исторические записки. Т. 27. М., 1948. С. 34.
- Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. М.: ИНСАН, 1991. 320 с., карт.








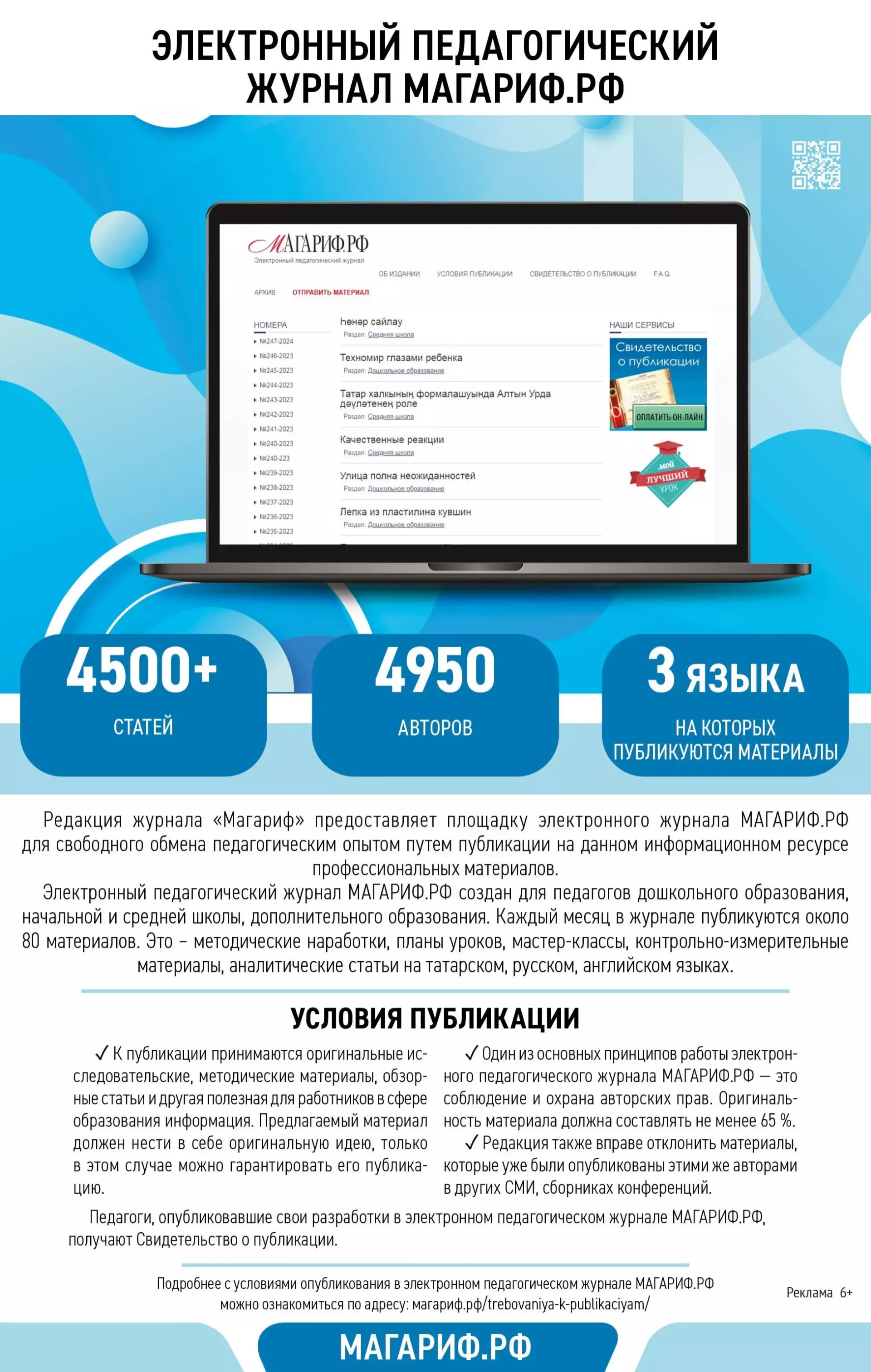
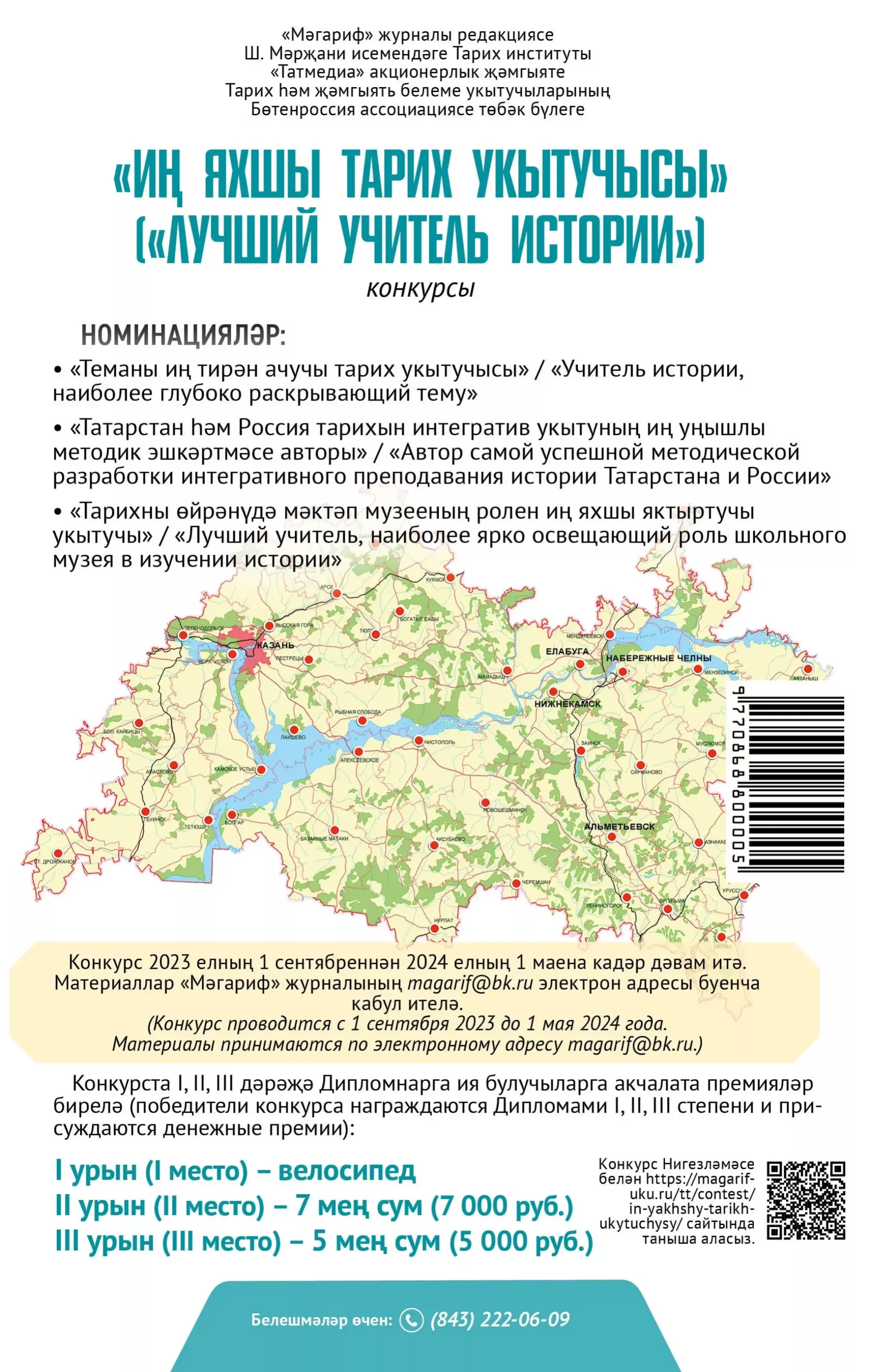
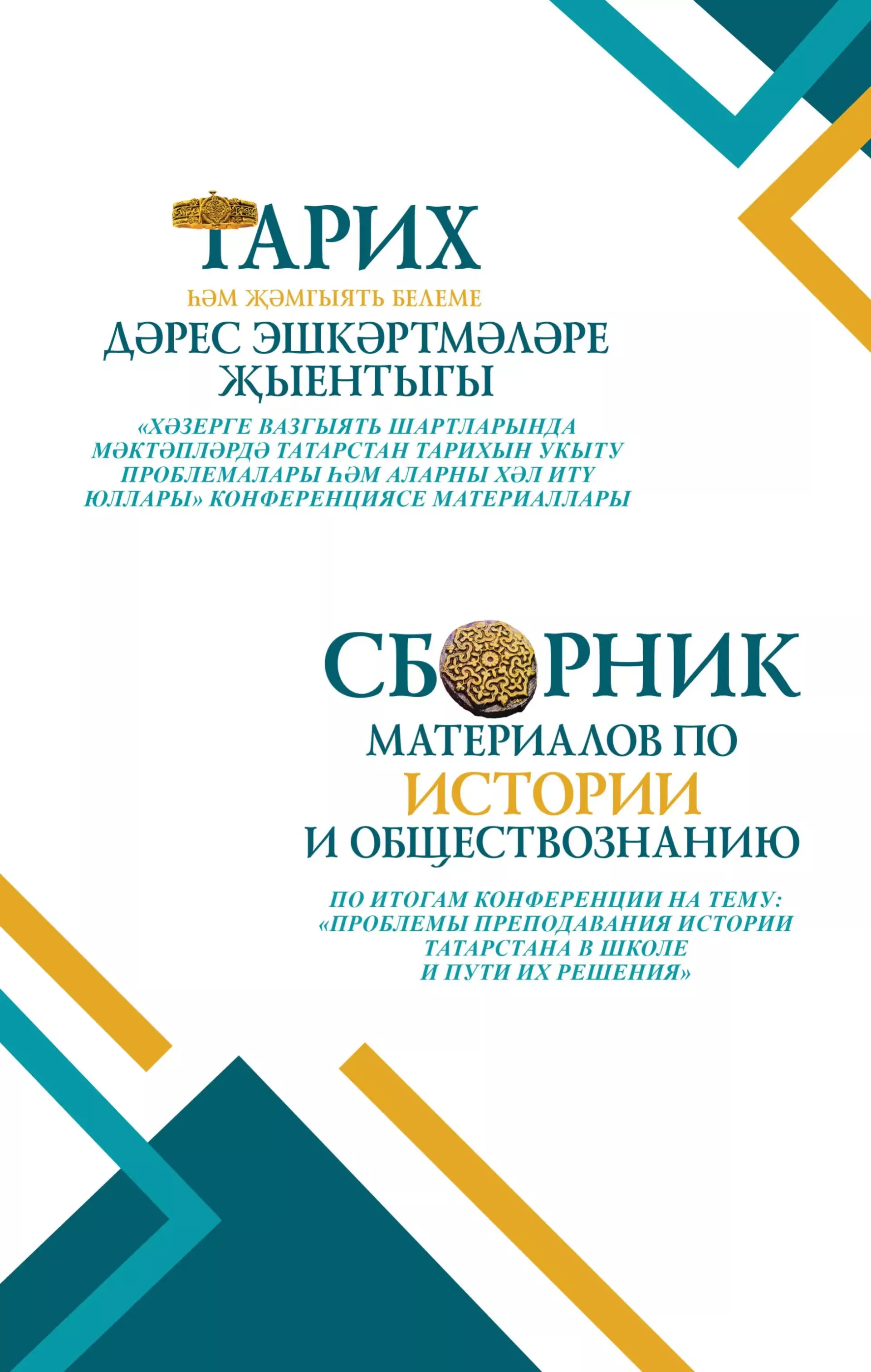
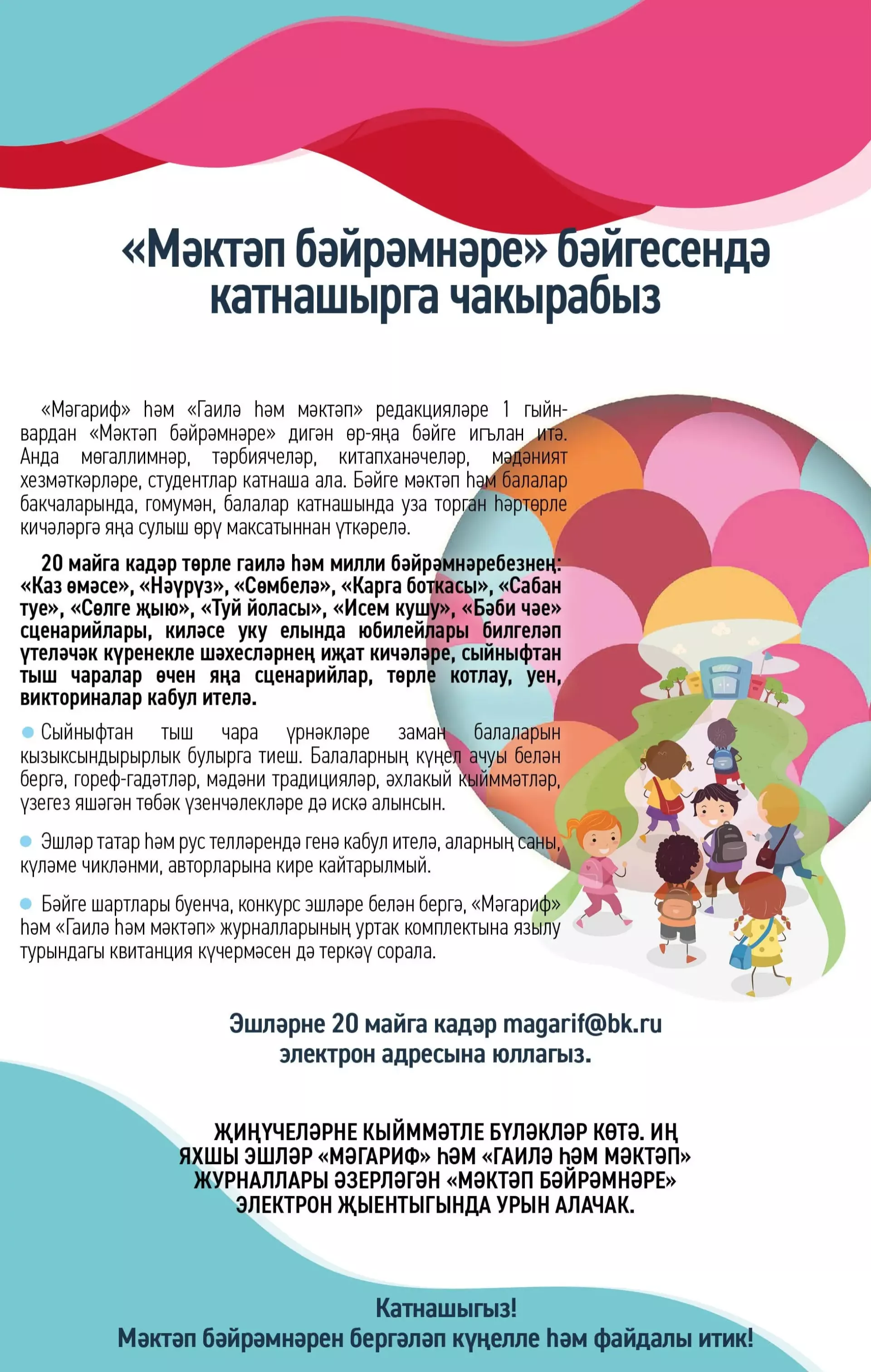
Комментарийлар